Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 2.4.2024, 16:51 2.4.2024, 16:51
Сообщение
#1
|
|
|
Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 27.5.2017 Пользователь №: 22380 |
"Около 14 часов я и начальник разведки Кочетков находились в комнате Еременко и докладывали по карте последние данные об обстановке. Через некоторое время в комнату вошёл Пигурнов. А примерно через полчаса раздались выкрики: "Немецкие танки. Немецкие танки!" Мы быстро вышли на крыльцо домика и увидели приближающиеся танки. Они с ходу короткими очередями вели огонь из пулемётов. К домику подбежали Мазепов и Захаров, последний на ходу отдавал всем встречающимся командирам приказания немедленно уезжать на новый КП. По воспоминаниям Долгова, я прибежал в оперативный отдел и крикнул:
- Тревога, уезжайте в Белев! При мне оставьте четырёх человек. Затем я дал распоряжение об отъезде Кочеткову, а Кузнецов - начальнику узла связи, шифровальщикам, АХЧ и столовой. Всё это время в лесу, в районе КП, шла беспорядочная стрельба. Немецкие танки и мотопехота (непосредственно из машин) стреляли из пулемётов и пушек по домикам на КП и плохо замаскированным землянкам (обложенные сверху дерном блиндажи заметны не были). По противнику вели ответную стрельбу подразделения охраны штаба, а также командиры и красноармейца состава КП. Но вот машины оперативного, разведывательного и шифровального отделов скрылись в лесу и по объездной грунтовой дороге направились в Белев. Я подошёл к наблюдавшим за отъездом машин Мазепову и Захарову, который приказал мне обеспечить отъезд с КП всего состава, а затем кратчайшим путём ехать в Хвастовичи. Мазепов и Захаров тотчас же уехали на моей машине, которую я держал поблизости от землянки. Я и Кузнецов с группой в составе 12 человек остались на КП. Основным ядром нашей группы были командиры оперативного и разведывательного отделов и по одному человеку от управлений связи и артиллерийского, от штаба ВВС. Через несколько минут после отъезда Захарова и Мазепова ко мне пришли Калягин, Кабанов, Рухле и другие командиры. - Решили следовать в Белев одной колонной, - сообщил мне Калягин. По-видимому, мы демаскировали себя при разговоре. Из вражеской части, которая в районе домика Военного совета вела огневой бой с подразделениями охраны штаба, отделились несколько танков и направились в нашу сторону, стреляя из пулемётов и пушек. Скрываясь за деревьями, нам удалось быстро отойти метров на сто в глубь леса. Находившийся рядом со мной А. Я. Калягин получил лёгкое ранение в ногу. Вскоре вражеские танки возвратились к своей части. Примерно через час стрельба прекратилась. Немецкая моторизованная часть ушла к Брянску. Это были части 47-го моторизованного корпуса - с этого дня уже 2-й армии Гудериана. Корпус устремился мимо нас на Брянск, чтобы захватить его внезапным ударом с тыла. Вражеская часть не подозревала, что наткнулась на фронтовой КП. У шоссе Брянск - Карачев располагалось много наших тыловых частей и учреждений. Моторизованные подразделения противника для обеспечения движения своих войск по шоссе отгоняли наши тыловые части в глубину леса. По-видимому, и наш КП приняли за тыловое учреждение. После того как в районе КП стало тихо, я и Кузнецов со своей группой возвратились к блиндажам штаба. Ногу Калягину перевязали, и он, прихрамывая, пошёл во главе управления. К этому времени со старого КП все уже уехали на новый. Политическое и артиллерийское управления убыли одной колонной. Большая часть узла связи с телеграфными аппаратами была погружена на грузовые машины и оттянута в глубь леса для движения к Белеву... ... Находились мы на старом КП до темноты... ... В течение всего времени пребывания группы на КП по шоссе от Карачева к Брянску шёл беспрерывный поток автомашин и танков.Шли одна за другой , на расстоянии 100 - 200 метров. В некоторых пунктах вправо и влево от нас периодически вспыхивала оживлённая перестрелка... ... Как мы узнали позже, по другую сторону домика Военного совета в то время находились генерал Еременко с адъютантом, полковник Дубовко и начальник охраны тыла полковник Панкин с несколькими подразделениями охраны. Они, оказывается, также вели огонь по проходящим по шоссе машинам и несколько раз привлекали на себя вражеские подразделения. Если бы мы знали тогда, что командующий фронтом так близко от нас, мы бы присоединились к нему... Становилось всё темнее. Подул северный ледяной ветер. А вскоре пошёл снег. Это был первый снег в том году. Мы переправили машину через шоссе, погрузились в нее и поехали в Хвастовичи" -------------------- Делай что должен и будь что будет.
|
|
|
|
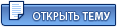 |
Ответов
 17.5.2024, 16:34 17.5.2024, 16:34
Сообщение
#2
|
|
|
Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 27.5.2017 Пользователь №: 22380 |
Из письма Л.М. Сандалову бывшего начальника штаба
артиллерии Брянского фронта Ф.А. Самсонова г. Москва 22 сентября 1964 г. Дорогой Леонид Михайлович, Сомневаюсь я, что могу быть полезным воспоминаниями об осени 1941 г., но... попробую. Я прибыл на Брянский фронт 17 августа 1941 г. из Оперативного управления ГШ на должность начальника штаба артиллерии фронта. Управление фронта находилось в стадии формирования и размещалось в районе лесничества Свень (14 км восточнее Брянска, в 1-1,5 км южнее шоссе Брянск-Орел). Район КП был организован вначале плохо, его легко могла разведать авиация противника, его «хеншели» и ФВ-189 летали беспрепятственно. Только по прибытии расформированного управления Центрального фронта стал постепенно налаживаться на КП внутренний порядок. В это время мне удалось добиться (после ряда отказов) у генерала Г.Ф. Захарова разрешения перенести штаб артиллерии на 1—1,5 км южнее, в лес. Место я выбрал в крупном, но негустом лесу, в 150—200 м от дороги (лесной) на ст. Навля и в 50—100 м от просеки, уходящей в глубину леса по направлению к Брянску. Используя в качестве штабной батареи батарею одного артполка, находящегося на доукомплектовании в р-не ст. Сивжеть, мне удалось построить КП по-военному (оборудовали блиндажи в 5-7 накатов, тщательно замаскировали, | установили твердый маскировочный режим). Через некоторое время получили разрешение на вынос своих управлений - нач. инж. фронта А.Я. Калягин и н-к АБТВ фронта. Они расположились от нашего КП метрах в 300, за просекой, и так же тщательно замаскировались. Управление тыла находилось на окраине Карачева. Все же не все шалаши из еловых ветвей на основном КП фронта были еще ликвидированы (землянки были построены только для основных отделов штаба фронта). Сам Военный совет фронта, НШ и опер, отдел располагались в домах лесничества; политуправление, ОО, прокуратура и некоторые другие учреждения располагались тут же, в домиках служащих лесничества. Начальник арт. фронта, генерал-майор артиллерии Михаил Петрович Дмитриев, прибыл вместе с генералом М.Г. Ефремовым, бывшим командующим Центральным фронтом. До него начартом фронта недолго был П.Н. Яскин, убывший на Карельский фронт. Но и М.П. Дмитриев оказался не в почете у ком. фронтом ген.-л-та Еременко, обычно не стеснявшегося в форме высказывания своего отношения к людям, которых он не считал для себя удобными. Поэтому М.П. Дмитри-ев редко бывал на КП, его командующий часто посылал в войска с поручениями, обычно не имеющими отношения к его прямым служебным обязанностям. Так вся тяжесть общения с командованием фронта постепенно легла на меня, что не приводило меня в хорошее настроение. Наши взаимоотношения складывались явно не в мою пользу. [...] Поэтому те немногие вопросы, которые мне надо было решать с командованием фронта, я предпочитал решать через начальника оперативного отдела фронта полковника Л.М. Сандалова и, в редких случаях, через Г.Ф. Захарова... В конце сентября или в начале октября начал организовываться запасный (вернее, тыловой) КП в Хвастовичи. Туда было приказано перебросить «все лишнее». Воспользовавшись этим, я удалил с основного КП всех работников штаба артиллерии, поскольку с каждым днем все более становилось ясным, что мы все можем оказаться в «ловушке». Немцы начали наступление крупными силами на флангах фронта, справа через Рославль на Людиново и далее на Вязьму и Сухиничи; слева - в направлении Глухов, Орел. Все три армии фронта (передававшаяся нам директивой Ставки 21А так и не вышла из окружения и фактически в составе фронта не находилась) оказывались под угрозой окружения. Противопоставить противнику нам было нечего. Оборона фронта была удивительно слабой. Мой объезд всех стрелковых дивизий центральной 3-й А и частично левофланговой 13-й армии еще в начале сентября раскрыл мне глаза на истинное положение с обороной. Имелась полностью, во многих местах не полной даже профили, одна траншея, и сзади нее на удалении от 25 до 50 м отдельные «окопчики». Никаких заграждений! Лишь на некоторых направлениях, где велись в августе и сентябре частные оборонительные бои и контратаки слабыми силами (до одной сд) против слабых же сил противника, оборона была более глубокой - до 1,5-2 км. Здесь же располагались и главные силы артиллерии, весьма в массе своей скудной (средняя плотность в обороне дивизий - 1-2 ор[удия]/км). Дивизии в большинстве занимали широкий фронт (до 35-55 км), были неукомплектованными. Второй оборонительной полосы в тактической зоне фактически не существовало. Армейские оборонительные рубежи отсутствовали, за них иногда выдавались незанятые войсками противотанковые рвы, выкопанные населением под руководством военных инженеров. Резервов не было, если не считать одной танковой дивизии, имевшей меньше десятка танков. На брянском направлении в резерве (не развернутая в боевой порядок) находилась одна либо две дивизии. На других направлениях (погарском, трубчевском, орловском) не было резервов вообще. Нельзя за эти резервы было принимать и два артполка, не закончившие доукомплектование и формировавшиеся Орловским ВО в Орле [в составе] пяти противотанковых батарей 85-мм зенитных пушек, не имевших средств тяги и связи и не полностью укомплектованных артвооружением. Управлять непосредственно какой-либо артиллерией штаб артиллерии фронта не мог - для этого у него не было ни объектов, ни средств управления. Поэтому задачи офицеров штаба сводились к инспекторским функциям (а учить и требовать выполнения рекомендаций боевых уставов следовало систематически, за лето отступления офицеры подраспустились и не делали того, что элементарнонеобходимо было делать в таких неблагоприятных условиях обороны), к учету состояния и информации о боевых действиях артиллерии, к оказанию помощи артиллерийским частям в восстановлении утерянной боеспособности. Итак, со мной на КП остались полковник Л.А. Шаманков, н-к оперотдела из бывших начартов (корпус летом 1941 г. утерян в боях при отступлении), и полковник Слепаков, н-к НРО. У каждого находилось по одному офицеру. Помню капитана М.Т. Глушкова (кадровый офицер) и капитана Сарычева из офицеров запаса. Кроме того - ст. лейтенант Фивепский, командир штабной батареи, прикомандированной от артполка, стоявшего в районе ст. Снежер на доформировании. В подчинении у Фивепского так называемый «комендантский взвод» (импровизированный) в составе 6-7 человек. Средства передвижения - две легковые машины (М-1), одна из них генерала Дмитриева и одна 1,5 т грузовая. Все остальные с документами штаба были отосланы на запасный КП в Хвастовичи. Возглавлял их полковник П.М. Щетинин, начальник отдела укомплектования и боевой подготовки. Управление артснабжения фронта во главе с полковником М.В. Кузнецовым размещалось вместе с управлением тыла фронта в Карачеве. Щетинину я приказал достать любыми средствами по бочке бензина и автомасла для трех грузовых (нештатных, содержащихся при штабе «нелегально») автомашин и держать их в неприкосновенном запасе в предвидении возможного отступления. Генерал Дмитриев вместе с военкомом артуправления фронта полковым комиссаром В.Д. Маркиным уехал в гв. стрелковую дивизию, ведшую оборонительные бои на самом левом фланге в р-не Н. Крупки (зап. г. Рыльска Курской обл.). Наступили тревожные дни. Немцы рассекли стык 50-й армии нашего фронта с Резервным, хотя еще 50-й армии и не угрожало сначала окружение, по-видимому, немцы сосредоточили главные усилия на этом направлении в сторону Вязьмы, как это и было нам известно еще за несколько дней до немецкого наступления. Более ощутимым для нас было наступление крупной группировки немцев на орловском направлении. Здесь удар пришелся полностью против войск 13-й армии нашего фронта. Один за одним пали города Дмитриев-Льговский, Дмитровск -Орловский, нависла прямая угроза над Карачевом и Орлом. Посланный мною в Орел полковник Шаманков для организации противотанковой обороны имевшимися в городе противотанковыми средствами, находившимися к тому же в ведении штаба Орловского ВО, возвратился доложить, что формируемые батареи кое-как удалось выдвинуть в сторону шоссе на Курск, непосредственно на окраине Орла, и что больше город защищать, собственно, некому. Проверять эти данные мы уже не могли, захлестнутые непосредственно новыми событиями. Поступили сведения о захвате немцами Людиново (крупный промышленный район сев. Брянска), и нависла угроза для крупного ж.д. узла Сухиничи. У нас же в лесу у шоссе Брянск-Орел располагалась фронтовая база боеприпасов. Мы испытывали тогда голод в боеприпасах, нам отпускалось в августе -сентябре 1941 г., независимо от боевой обстановки, только по два боекомплекта (в среднем). Поэтому на учете был каждый вагон. Предшествующий опыт моих взаимоотношений с командованием фронта подсказывал опасную неразум-ность доклада о необходимости срочного вывоза боеприпасов из базы в район ст. Нарышкино. С падением Сухиничей и Орла боеприпасы вывезти было уже невозможно. Доклад об этом мог вызвать приступы «ярости» и обвинения в «пораженчестве» и «трусости». У меня в блиндаже имелась одна-единственная линия связи - провод до Карачева, - которую удалось добиться провести из-за требования быть в готовности к докладу о состоянии дела с боеприпасами в любое время суток. Я предложил М.В. Кузнецову убедить зам. ком. фронта по тылу М.А. Рейтера в необходимости вывода фронтовой базы. М.А. Рейтер знал меня еще по СКВО, где он был зам. командующего, и мы имели достаточно частые встречи, способные убедить его в том, что мои доклады носили обычно продуманный характер. Самому М.В. Кузнецову я посоветовал побыстрее перебазироваться в Хвастовичи, поскольку Карачев под угрозой, а защищать его двум десяткам офицеров с пистолетами смешно и неразумно. Вскоре я получил от него ответ, что разрешение на эвакуацию базы получено и что на следующий день он со своим управлением переходит на запасной КП. Это было за сутки до падения Карачева, переход управления тыла прошел в относительно спокойной обстановке. Орел уже был в руках немцев несколько суток, они продвигались к Мценску. В ночь на б октября немцы овладели Карачевом, петля на войсках фронта стала затягиваться, в нее попадал и КП фронта, пребывание которого в лесу под Брянском теряло смысл. Вечером 5 октября я высказал эти соображения генералу Г.Ф. Захарову и спросил его, когда он предполагает перебазировать КП фронта в Хвастовичи. В ответ он заявил: «Будем здесь до самопожертвования». В этот день я настойчиво предложил полковнику Т.Ф. Беляеву, возглавлявшему инспекторскую группу из управления начальника артиллерии Красной Армии, срочно выехать в Москву, поскольку события приобретают такой оборот, что ни нам с ними нет времени общаться, ни от них никакой помощи мы уже получить не сможем, и они могут оказаться дополнительной «нагрузкой» на наших плечах, когда петля над нами затянется. Эта группа уехала и еле-еле проскочила Сухиничи, уже обстреливавшиеся немецкими танками (об этом мне уехавшие рассказали уже много позднее - в 1942 г.). Отправил все документы, оставив лишь рабочую карту, одну на всех, некоторые справки по артиллерии, которые могут понадобиться командованию. Беспокоил меня вопрос о безопасности первого полка ГМЧ (реактивной артиллерии ), вооруженного установками БМ-13. Был у нас еще один (6-й) полк ГМЧ с установками БМ-8, но тот был вне затягивавшегося кольца. Мы имели жесткую инструкцию, предупреждавшую о суровой ответственности на случай захвата противником хотя бы одной установки в неуничтоженном виде. Часть этой ответственности ложилась на меня, несмотря на существование какого-то военного совета опергруппы ГМЧ, который, как говорили, находился у нас на фронте, но которого я не видел и в глаза. Тогда командование ГМЧ обходило стороной начальников артиллерии фронтов и армий, борясь за «самостоятельность» и пытаясь иметь дело только с общевойсковым командованием. Такое «воспитание» шло сверху, где все части реактивной артиллерии возглавлялись особым командованием ГМЧ при Ставке ВГК. По вопросам оперативного использования команду-ющий ГМЧ (Аборенков) находился в правах зам. народного комиссара обороны, а по всем остальным вопросам ими ведал Маленков через двух членов Военного совета (один из бывших работников аппарата Маленкова, а другой из политработников ГАУ). Мне удалось довольно легко рассказать Л.М. Сандалову всю опасность положения первого полка ГМЧ, который двумя дивизионами находился в 3-й армии, а одним - в 13-й. Его доклад генералу Захарову, видимо, имел какой-то успех - была послана шифртелеграмма о выводе всего полка в район Белые Берега (сев. шоссе Брянск-Орел), от КП фронта километрах в 8-10. Однако, когда первый дивизион следовал мимо КП (он возвращался через переправы на Десне в районе Брянска), командир полка капитан Шмаков направился к командующему фронтом с личным об этом докладом. Как обстояло дело дальше, я знаю с чужих слов, по докладу т. Шмакова, прибежавшего ко мне во «встрепанном» виде, - я понял, что он попал к генералу Захарову, был обозван трусом, Захаров ему пригрозил суровой карой за «дезертирство», не желая слушать о том, что полк получил приказание сосредоточиться в Белых Берегах. Далее Шмаков получил от генерала Захарова точно показанное пальцем место (палец попал в точку, находившуюся в 3-4 км с.-з. г. Брянска), где полк должен развернуться и «удерживать Брянск от попыток его захвата противником». Вместе с тем Шмаков, будучи расторопным офицером и далеко не трусом, успел ознакомиться с обстановкой и понял, что полк может весь погибнуть без видимой пользы, а ему придется нести на самом деле суровую ответственность за возможное попадание боевых установок к противнику. Теперь он пришел ко мне за содействием. Но теперь уже было поздно - отменить нелепое приказание было невозможно. Пришлось ему порекомендовать связаться потеснее с Лиселидзе (полковник Лиселидзе тогда был начальником артиллерии 50-й армии) или с майором Губановым (НШ артиллерии 50-й армии) и далее следовать точно их указаниям и не проявлять никакой «самостийности». При отходе 50-й армии следовать с дивизионом неукоснительно и в случае реальной опасности действительно уничтожить установки, а не только доложить об исполнении, не проследив действительного положения вещей (тогда нередки были случаи неточных и даже ложных донесений). За другими дивизионами полка я обязался проследить сам и принять меры к сохранности установок от противника, поскольку остальные дивизионы будут недалеко от КП фронта. Как выяснилось значительно позднее, Шмаков поступил в соответствии с этим моим советом: установки были уничтожены в его присутствии в районе Стеклянная Гуща при отходе частей 50-й армии на Козельск, Калугу, Тулу. Я же выполнить обещание по поводу двух других дивизионов не смог - один дивизион попал при отходе из 13-й армии под удар авиации и танков противника. Комиссар дивизиона, прибывший к нам на КП уже в районе Белева, доложил, что установки они все уничтожили. Опросив его, как они это сделали, я убедился, что так действительно можно было сделать. Однако позднее, примерно через месяц, я узнал, что находившийся при дивизионе командующий опергруппой ГМЧ (фамилию не помню - кажется, Скучаревский) увел три или четыре (из восьми) БМ-13 под Мценск. Второй дивизион я встретил 7 октября в лесу у Белых Берегов, при ди-визионе был ст. л-т Фриче (НШ дивизиона), которого я знал еще по Киевскому артучилищу. Командир дивизиона капитан Карсанов с военкомом, по докладу Фриче, уехал в штаб фронта 6 октября, и больше о нем сведений он не имел. А 6 октября произошли следующие события. В ночь на 6 октября я долго сидел в «кабинете» у полковника Сандалова, около часу или двух 6.10.41 г. я пошел к себе отдыхать и сказал, что пришлю полковника Шаманкова. На вопрос Леонида Михайловича: «Зачем?», я ответил: «Чтобы без нас не уехали в Хвастовичи, у меня в практике учений войск было в довоенные годы не раз, что штаб дивизии переезжал на новый КП, «забыв» поставить об этом в известность начартдива со штабом, и потом приходилось не раз «догонять» штаб дивизии и выслушивать вдобавок нравоучительные замечания командира дивизии». Разбудив Л.А. Шаманкова, я направил его в оперотдел штаба фронта. Он спросил, что там надлежит ему делать, я и ему сказал то же: «Следи за тем, чтобы мы внезапно не остались здесь в лесу одни. Карачев уже у немцев, севернее Брянска все дороги перехвачены, и у нас остался один путь - через разъезд Снежетский на Хвастовичи лесной дорогой». Шаманков спросил: «А зачем же тогда так долго сидеть здесь, тем более что армии уже отходят и связь с ними поддерживается только по радио? Как долго мы будем здесь сидеть?» Я с раздражением ответил: «До прихода немцев». Потом сказал: «Приходи часам к двум дня, пообедаем, а там видно будет, что делать дальше». Сам же лег спать. Через некоторое, мне показалось, непродолжительное время я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. Я проснулся и увидел Шаманкова. «Вставай, немцы пришли», - сказал он. Я вспомнил ночной разговор с ним, посмотрел на часы - было 14 часов 5 минут, вспомнил, что в 14 часов собирались обедать. «Обедать пришел?», - спросил я. «Что ты, - говорит он, - на самом деле немцы пришли, послушай хорошенько». Я вспомнил, что командование фронтом ночью вызывало танковую дивизию и собиралось ею «выбить» немцев из Карачева (8-10 танками). Видимо, дивизия запоздала и только что проходит район КП, т.к. за блиндажом слышен был глухой шум двигавшихся танков. Однако, выглянув из блиндажа, я заметил сквозь деревья проходящие немецкие танки и автомашины-вездеходы с автоматчиками. Двигались они в сторону КП фронта по дороге из леса от ст. Навля. Л.А. Шаманков рассказал мне, что он шел уже из оперотдела к себе, как в районе мостика через р. Свень услышал гул идущей колонны танков. Спрятавшись на всякий случай за прибрежные кусты, он увидел колонну немецких танков. Прикрываясь кустами, вдоль берега речки он добежал до более густого леса, а оттуда к себе, разбудил меня. Танки он увидел в 13 час. 55 мин. По дороге успел дежурному приказать прекратить всякое движение на нашем КП. Березовые слеги, которыми были провешены тропинки (ими приходилось пользоваться ночью), были сняты по моему приказанию еще накануне, а гнилушки, освещавшие тропинки, днем света не дают. Отличная маскировка блиндажей, на которых были посажены (с землей, как принято называть, «со стулом») небольшие деревца, покрытые мхом под цвет окружающей местности, не привлекла к себе внимание немцев, они уверенно шли на КП фронта, в лесничество.У соседей (танкистов и инженеров), насколько можно было увидеть, было также тихо и спокойно. У нас имелось на весь наш штаб три автомата (ГТПТТТ) - у меня, Шаманкова и Слепакова, 6-7 винтовок у «комендантского» взвода. Оценив обстановку, я понял, что, не изготовившись к бою, открывать огонь по автомашинам немцев двумя автоматами, не имея возможности передать какие-либо указания на случай боя остальному составу КП, разобщенному по отдельным блиндажам, не следует; открывать бессмысленную стрельбу, результат которой был бы явно не в нашу пользу, не стоило. Пока я размышлял об этом, машины прошли (все это продолжалось не более минуты-двух), и в районе КП фронта послышалась беспорядочная автоматно-пулеметная стрельба, перемежавшаяся редкими выстрелами малокалиберных пушек. Собрав личный состав, информировав о том, что известно, я отдал приказание шоферам все три машины отогнать на 1-1,5 км по просеке и, сойдя с нее, замаскировать их, ожидая от меня дальнейших указаний. Над остальными людьми приказал взять командование ст. л-ту Фивепскому и получать от меня дальнейшие указания, а пока немедленно выслать разведку из трех человек в сторону КП фронта, установить, что там делается, и возвратиться через 1-1,5 часа на контрольно -пропускной пункт в лесу, на просеке в сторону Брянска. С остальным личным составом двинулся по просеке в сторону КПП. У танкистов и инженеров, мимо КП которых мы проходили, не было ни одного человека. У нас недоставало одного старшины, который был послан в штаб фронта с каким-то поручением (больше я его не видел), и капитана Сарычева, ушедшего в РО штаба фронта с каким-то поручением полковника Слепакова. На КПП находился мл. лейтенант и два красноармейца, порядком встревоженные и не знавшие, что им делать, т.к. связь (проводная) с комендантом штаба не работала. Он доложил мне, что несколько минут назад мимо КПП проехал генерал Захаров с дивизионным комиссаром Мазеповым. Генерал открыл дверцу машины и крикнул мл. лейтенанту: «Направляйте всех на Брянск!». Я удивился такому распоряжению, т.к. дорога на Хвастовичи проходила через разъезд Снежетский (вторая дорога, через Брянск, была длиннее на 18-20 км). Мл. лейтенанту я приказал самому разведать с бойцами, поскольку КПП фактически перестал существовать, положение в районе КП фронта (лесом незаметно можно было дойти до района столовой штаба фронта, куда от КПП было около 1,5 км) и, если не найдет коменданта, которому подчинен, следовать на Хвастовичи через разъезд Снежетский. Вернулась наша разведка и доложила, что в районе КП - немцы, но стрельба затихла, весь личный состав КП, видимо, рассредоточился по лесу. Тогда я принял решение самостоятельно выбираться в Хвастовичи. Сделать это оказалось непросто. На поляне перед КПП стоял самолет-истребитель, посаженный подбитым летчиком, который (по сообщению мл. лейтенанта) направился в штаб фронта. Самолет генерал Захаров приказал сжечь, а как это сделать, мл. лейтенант не знал. Он открыл вентиль бака с горючим, зажег струйку бензина, но самолет ни взрываться, ни гореть не пожелал. Мы не стали возиться с самолетом, тем более что через лес со стороны Брянска послышались взрывы, а по шоссе, которое находи-лось от нас в 3-4 км, слышен был гул проходящих танков. Мне стало ясно, что промедление с преодолением шоссе может нас привести в положение окруженных. В нашем распоряжении были две легковые и одна грузовая автомашины, нас всего было человек 11-12, мы могли довольно быстро добраться до Хвастовичи. День был солнечный, сухо, относительно тепло, и, как только мы переправились бы через шоссе, можно было добраться до запасного КП довольно быстро. Вскоре, по мере нашего движения в сторону мясокомбината Брянска (я наметил переход через шоссе где-либо на середине дороги от Брянска до Свени), ко мне из леса стали примыкать отдельные офицеры из состава штаба фронта. Одним из первых из леса на просеку вышел бригадный комиссар Пигурнов (начальник политуправления фронта), которого я пригласил к себе в автомашину, но он решил ехать «с массой» в кузове грузовика. Затем стали появляться небольшие группы, появились пожарники Брянска в полной готовности для тушения пожара, потом какое-то подразделение милиции, какие-то граждане, люди из ветеринарного лазарета фронта, какой-то склад (личный состав) и т.д. Все это замедлило движение, надо было разобраться во всей этой растущей толпе и организовать ее. Тов. Пигурнов в это время предложил нам всем вернуться через лес к Десне, переправиться через нее, примкнуть к частям 50-й армии и с ними выходить из окружения. Он был настойчив и не соглашался с моим планом выхода на запасной КП в Хвастовичи. Присутствовавшие при этом офицеры, часть которых была из политуправления фронта, приняли в «дискуссии» активное участие, явно распадалась дисциплина. Тогда я предложил т. Пигурнову прекратить спор и взять на себя командование всеми собравшимися людьми (их набралось уже - только военных, гражданских мы отослали от себя, предложив либо эвакуироваться лесными дорогами, либо переждать боевые события и возвратиться в Брянск). Длительные попытки т. Пигурнова взять порядок в свои руки не удавались, его просто не слушались, люди собирались группами, обсуждали положение, у всех рождались разные планы, а дела, собственно, не делали. Тогда он подошел ко мне и предложил взять командование в свои руки. Я сказал, что только на одном условии - беспрекословного подчинения всех, я поведу всех только на Хвастовичи. Время стало подходить к вечеру. Было около 17 часов, поднялся ветер, похолодало, вскоре набежавшая тучка высыпала первый снег, который пока еще таял на земле. Приказав Шаманкову и Слепакову построить всех, отделить вооруженных (их оказалось очень мало; многие, даже офицеры штаба фронта, не имели пистолетов, автоматов так и осталось три, винтовок также не прибавилось), распределить всех по машинам, назначить на машины старших, всех вооруженных сосредоточить на головной грузовой машине штаба артиллерии под командованием ст. лейтенанта Фивепского. Впереди шли наши же легковые машины. Помимо машин штаба артиллерии оказалось еще несколько грузовых машин. К наступлению сумерек наша «колонна» подошла к дому лесника. До шоссе оставалось 0,5-0,8 км, но просека привела нас близко к Брянску, что не входило в мои планы. Кругом стояла тишина. Остановив колонну, я отправился разведать дорогу перед проходом шоссе. Оказалось, что здесь переходить опасно: у мясокомбината стояло три немецких танка, один из них ремонтировался его экипажем. Возвратившись к колонне, я ее не застал на месте, оказалось, что она ушла по дру-гой просеке в сторону разъезда Снежетского. Я остался один (надо сказать, что я с 1939 г. болел язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, с 1940 г. болезнь обострилась, любое физическое или нервное напряжение вызывало острые боли, рвоту и т.д.), предстоял пеший поход, который мог оказаться мне не по силам. Однако вскоре меня встретила моя машина с капитаном Глушковым. Они предполагали, что я пошел именно по этой дороге, кто-то предложил т. Пигурнову двигаться вперед, он подал такую команду, и они пошли. С наступлением темноты колонна остановилась, тут Глушков обнаружил мое отсутствие и возвратился за мной, на этом настаивал и мой шофер И.В. Чуев, видевший направление, в котором я ушел. В колонне я встретил нервозное состояние, т. Пигурнов доложил, что он выслал разведку и ожидает ее результаты. Сделав замечание о непозволительной «инициативе» с уходом колонны, я установил, что в разведке были только рядовые бойцы с ефрейтором. Результатов разведки можно было ожидать долго. Взяв с собой Глушкова и двух красноармейцев, я приказал своему шоферу быть старшим и запретил какой-либо машине двигаться без его приказания, если даже придется подчинять силой оружия (у него был пистолет, он имел звание ефрейтора, был человеком смелым и не поддающимся панике, что я уже проверил в предыдущие месяцы совместной службы). Тов. Пигурнову предложил успокоить людей, не позволять им куда-либо двигаться, пока я не найду надежного места для проезда машин через шоссе и разъезд Снежетский. Место переезда мы с т. Глушковым нашли, и около 23 часов я послал его вывести колонну к этому месту. Здесь ко мне присоединилась еще одна группа из КП фронта, человек около 30-35, также решивших пробираться в Хвастовичи. Погода к полуночи снова изменилась, стих ветер, перестал идти снег, вышла полная луна, стало светло. Вскоре появились машины, но группы во главе с т. Пигурновым не было, они, оказывается, не выдержали ночного ожидания и без машин направились через лес в сторону разъезда Снежетского. Перегнав автомашины через шоссе и через железную дорогу у разъезда, мы за разъездом подобрали часть группы (часть ее разбрелась, в том числе несколько женщин - сотрудниц политуправления и др. учреждений фронта). Тут у меня с т. Пигурновым была вторая неприятная «беседа», я настойчиво предложил ему пересесть в мою машину и впредь не нарушать моих планов. Около бывшего монастыря сохранилась переправа (мост) через р. Снежеть, и мы благополучно, присоединив к себе по пути дивизион БМ-13 (о котором сказал выше) и взвод Т-60 из полка охраны КП фронта, к 8-8.30 добрались до Хвастовичи. Оказалось, что запасного КП уже не было, но в постовом отделении был оставлен офицер, приказавший от имени генерала Захарова всем следовать в Ульяново. Решив дать людям отдых после тревожной и бессонной ночи, я разрешил отдых до 11 часов, после чего приказал собраться и следовать колонной дальше в Ульяново. Дивизион БМ-13 ушел на отдых в лес, по дороге на Ульяново, батальон Т-60 ушел туда сразу. Еле собрав к 11.30-12 часам неполностью (списков не составили ) группу и построив ее в переулке на выезде в лес (в сев.-воет, части Хвастовичи ), я приказал идти по дороге на Ульяново. Пропустив всю колонну мимо себя и дождавшись, когда она втянулась в лес (около 400-500 м от села), я решилеще раз проверить, кто задержался в домах, примыкавших к этому переулку. Но в это время в село втягивалась танковая колонна, по всей видимости, немецкая. Не ожидая встречи с нею, я вместе с т. Пигурновым и Шаманковым поехал за колонной. День 7 октября был по-настоящему осенний, выпадал несколько раз снег, перемежавшийся дождями, дороги стали труднопроходимыми. Только к вечеру, измученные, мы добрались до Ульяново. Здесь я встретил полковника Аргунова, который сказал, что КП фронта переместился в Белев, а он остается в качестве «белевского укрепленного участка». Я оставил ему дивизион БМ-13, противотанковый (45-мм птп) дивизион, какой-то ад 49-й армии, попавшийся мне по пути из Хвастовичи в Ульяново, явно запутавшийся при отступлении и потерявший свою дивизию. В помощь т. Аргунову, в качестве начальника артиллерии его «укрепленного участка», оставил капитана Вайсбанда, а всем остальным дал отдых до утра 8.10.1941 г. Тов. Пигурнов уехал в штаб фронта в Белев (в Ульяново имелись машины штаба), офицеры, примкнувшие ко мне в злополучный день 6.10-го в лесу у р. Свень, разошлись по своим учреждениям. Утром 8.10 я со своим штабом (здесь меня дождался т. Щетинин со всем личным составом штаба, находившемся в Хвастовичи) убыл в Белев, а к концу светлой части дня мы добрались до с. Куракино (воет. р. Ока), где и начал свою новую жизнь штаб Брянского фронта, почти не имея связи с подчиненными войсками, выходившими из окружения самостоятельно. Среди нас в Куракине не оказалось генерала А.И. Еременко. Здесь я узнал, что он в злополучный день 6 октября, как только немцы пришли к лесничеству Свень, успел с адъютантом (Пархоменко, кажется) уехать на машине в 3-ю армию к генерал-майору Я.Г. Крейзеру. Нас очень удивило нежелание командующего фронтом вернуться на КП фронта и попытаться взять управление фронтом в свои руки, тем более что Я.Г. Крейзер не нуждался в повседневной «опеке» своего командующего. [...] 1 Как бы там ни было, жалеющих не было, тем более что генерал Захаров, взявший функции командующего фронтом в свои руки, вскоре показал, что он не менее достойная замена убывшего генерала Еременко. Вскоре мы снова перебазировались - в Касторную, откуда в Щигры. Кстати, в Касторной повторилась «старая» история: штаб фронта убыл в Щигры ж/д эшелоном, «забыв» нас в Касторной. Обнаружилось случайно - мне срочно ночью понадобилась медицинская помощь (очередной сильный приступ язвенной болезни ). Посланный на ст. Касторная, в неразгружавшийся второй эшелон штаба, в санчасть, мой шофер возвратился ни с чем, сказав, что все эшелоны ушли, как он выяснил у коменданта станции, на Щигры. Утром, с рассветом, мы на машинах, которых у нас не положено было быть, совершили марш в 90 км и еле-еле добрались к 16 час. в Щигры. Генерал Захаров встретил меня возгласом: «Куда вы пропали? Ищут вас, ищут, найти не могут». Так он и не захотел поверить, что забыли в Щиграх не только нас, но и своего оперативного дежурного, который из помещения милиции на запросы дежурного по штабу артиллерии неизменно отвечал: «Все в порядке».з Щигров 26 октября мы снова перебрались на новое место. На этот раз - в Елец. Только здесь фронт принял подобающую ему форму, части вышли из окружения, создан сплошной фронт обороны, штаб фронта стал полноценно управлять войсками. 17 ноября я убыл к новому месту службы - начальником артиллерии 28-й армии. Конечно, Леонид Михайлович, эти строки беглых воспоминаний не годятся для Вашей книги. Но они могут оказаться полезными для восстановления в памяти общего фона, на котором Вы будете строить свои воспоминания. Все мелочи, о которых я сказал, могут воссоздать колорит тех дней, по-своему характерных и поучительных. Привет. С глубоким уважением, Самсонов P.S. Не было времени тщательно обработать написанное, все написано в один «присест», за это и приношу извинения. ***Самсонов Федор Александрович (1901-1980) - генерал-полковник артиллерии (1944). В период Великой Отечественной войны - офицер Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии; начальник штаба артиллерии Брянского фронта (с августа 1941); начальник артиллерии 28-й армии (с ноября 1941); начальник штаба Главного управления начальника (командующего ) артиллерии Красной Армии (с декабря 1941). -------------------- Делай что должен и будь что будет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
 proffrus Воспоминания Сандалова Л.М. о 6 октября 1941 года 2.4.2024, 16:51
proffrus Воспоминания Сандалова Л.М. о 6 октября 1941 года 2.4.2024, 16:51
 kusnez Тут хоть какое-то объяснение есть, почему Ерёменко... 3.4.2024, 13:24
kusnez Тут хоть какое-то объяснение есть, почему Ерёменко... 3.4.2024, 13:24

 proffrus Цитата(kusnez @ 3.4.2024, 13:24) Тут хоть... 3.4.2024, 14:15
proffrus Цитата(kusnez @ 3.4.2024, 13:24) Тут хоть... 3.4.2024, 14:15
 kusnez Почему Сандалов, находясь на КП до вечера, не виде... 3.4.2024, 17:17
kusnez Почему Сандалов, находясь на КП до вечера, не виде... 3.4.2024, 17:17

 proffrus Цитата(kusnez @ 3.4.2024, 17:17) Почему С... 4.4.2024, 9:17
proffrus Цитата(kusnez @ 3.4.2024, 17:17) Почему С... 4.4.2024, 9:17
 proffrus Сыплю вот на Еременко обвинения в сплошной лжи иоп... 17.5.2024, 15:46
proffrus Сыплю вот на Еременко обвинения в сплошной лжи иоп... 17.5.2024, 15:46

 kusnez Цитата(proffrus @ 17.5.2024, 16:34) Из пи... 17.5.2024, 19:00
kusnez Цитата(proffrus @ 17.5.2024, 16:34) Из пи... 17.5.2024, 19:00
 proffrus Из письма Л.М. Сандалову бывшего заместителя начал... 17.5.2024, 16:39
proffrus Из письма Л.М. Сандалову бывшего заместителя начал... 17.5.2024, 16:39
 kusnez И ничего о наших танках в районе штаба фронта 6 ок... 18.5.2024, 1:01
kusnez И ничего о наших танках в районе штаба фронта 6 ок... 18.5.2024, 1:01
 Штрафник Юрий, спасибо за приведенные письма. Интересные ма... 18.5.2024, 13:58
Штрафник Юрий, спасибо за приведенные письма. Интересные ма... 18.5.2024, 13:58
 kusnez Цитата(Штрафник @ 18.5.2024, 13:58) Юрий,... 18.5.2024, 15:29
kusnez Цитата(Штрафник @ 18.5.2024, 13:58) Юрий,... 18.5.2024, 15:29
 Штрафник Цитата(kusnez @ 18.5.2024, 16:29) Это не ... 19.5.2024, 22:15
Штрафник Цитата(kusnez @ 18.5.2024, 16:29) Это не ... 19.5.2024, 22:15
 proffrus Цитата(Штрафник @ 19.5.2024, 22:15) Да, А... 22.5.2024, 18:46
proffrus Цитата(Штрафник @ 19.5.2024, 22:15) Да, А... 22.5.2024, 18:46 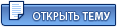 |
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

|
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 11:53 |
При частичном или полном копировании информации ссылка на форум www.poisk32.ru обязательна!







